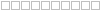"Меня завораживает тема смерти"
– Через все ваши произведения прослеживается трагическое восприятие действительности. Это такой продуманный литературный ход, когда, например, автор в жизни боится крови, а пишет кровавые детективы? Или то, что вы пишете, действительно совпадает с вашим мироощущением?
– Может быть, как раз страх смерти - главная вещь, которая мне интересна. Это основной человеческий вопрос. Особенно это чувствуется сейчас, осенью, когда все вокруг умирает.
Что касается профессионального расчета, то его не может быть. Когда я начинала писать "У войны не женское лицо", мне такое в голову не приходило - что-то написать так, чтобы понравиться читателю…
Я выросла в деревне, после войны, я родилась в 1948 году и помню только рассказы о смерти. Мои родители, сельские учителя, жили в деревне, где была страшная бедность и бесконечные разговоры о смерти. Деревенские люди - природные люди, они умеют и без Достоевского связать историю и природу.
– Но, наверное, только годом рождения это нельзя объяснить? Наверняка, можно найти писателей, ваших ровесников, которые пишут что-то легкое и веселое. Наверное, дело в личности писателя, в вашей личности?
– Может быть, это одна из моих глубоких детских травм. После войны люди ни о чем другом не говорили. Сколько я себя помню в детстве - женщина плачет на лавочке и просит Бога: "Пусть бы он хоть без ног вернулся, я бы его на руках носила".
Я не думаю, что так устроены мои глаза и ухо, что я только ЭТО улавливаю. Я была знакома с Анной Политковской и могу сказать, что она была травмирована войной, она не смогла уберечь психику. Но я надеюсь, что я сохранила равновесие, иронию и радость жизни. В конце концов, для этого есть стихи, музыка, человеческие встречи.
Если четко сформулировать, то - да, меня завораживает тема ухода. Куда? Зачем? Как быть к этому готовым? Но я не люблю ходить на похороны и, в принципе, не хожу. К тому же человека, которого ты знал и любил, уже нет, это просто оболочка.
"У меня обнаженная кожа, я не могу защититься от боли"
– Александра Андриевская написала в журнале АRCHE, в статье про вас, следующие слова: "Алексиевич занимается сознательным коллекционированием человеческой боли".
– Глупость, это полнейшая глупость. Это надо быть каким-то роботом, чтобы коллекционировать боль. Вся жизнь и так пронизана болью.
Может быть, у меня действительно обнаженная кожа, я не могу защититься от боли. Слишком много ее вокруг. В Европе, где я много живу, она припрятана за комфортом, за культурой, а у нас все торчит и взывает. И как тут пройти мимо? У меня не получается.
– Вы считаете, что без этого, без такого обостренного ощущения, не может быть большого писателя?
– Думаю, что да. Если вспомнить серьезных писателей, то у них у всех кожа очень тонкая. А иначе и писать нельзя. Тогда надо писать детективы, как Донцова.
Правда, у меня с годами запас прочности исчерпывается. На какие-то вещи у меня уже нет сил. Я бы сейчас уже не зашла в госпиталь к инвалидам-афганцам. Я бы уже не зашла в Дом ребенка. Потому что если быть честной - или бери одного из них себе, или вообще не ходи.
– Получается, что счастливый человек не может стать писателем?
– Всегда счастливым может быть только идиот. Есть фрагменты, минуты счастья в жизни. Но как может человек быть счастливым, если вы читаете новости, а там - мать убила ребенка, кого-то опять застрелили. Какое тут может быть счастье? Я не умею быть счастливой, когда вижу в России беспризорных детей.
– Это вы где-нибудь в Эфиопии не были…
– Я была в Индии. Там натыкаешься на живой детский скелетик. Но ты не можешь ему ничего дать, потому что на тебя набросятся другие дети и разорвут.
А богатая улица, где живут мои издатели, закрывается на замок. Надо позвонить, и тогда вас пустят. И как тут быть счастливым?
– Но если бы все нормальные люди рассуждали так, как думают "мыслящие люди" (мол, как можно быть счастливым, пока в мире столько горя), то все бы стали шизофрениками…
– Я не могу сказать, что я несчастный человек. Я знала любовь, дружбу, я вырастила ребенка - весь этот человеческий набор у меня есть. Но если вы "думающий тростник", то вы видите мир шире. Он для вас прозрачнее.
– В интервью для моей рубрики Лявон Вольский сказал фразу, которая мне очень понравилась: "Я нават заказныя рэчы пішу з натхненнем". Есть ли у вас такая грань, когда вы чувствуете, что-то нужно написать, чтобы понравиться читателю или критикам?
– Вот тут я счастливый человек. Когда написала "У войны не женское лицо", я стала абсолютно свободным человеком. После этого я строки не написала, если мне не было интересно.
Форма, которую я избрала в литературе, конечно же, не случайна. Одно из самых сильных потрясений было, когда я прочла "Я из огненной деревни" Брыля, Адамовича и Колесника. Я как раз в то время искала себя и увидела, что этот жанр мой. Сразу вспомнилась деревня, мое украинское и белорусское детство - и это совпало со мной. Тут не было никакого расчета. Какой расчет может быть в любви, когда человек нашел себя, свое продолжение?
"Без русской культуры мы будем провинцией и мало кому интересными"
– Вы называете себя человеком русской культуры. Что вы в это вкладываете?
– Я, конечно, сформирована русской культурой - Достоевским, Толстым, Чеховым. Если бы в моей жизни не было русской культуры, то мои книги о войне, Чернобыле были бы иными. Мне предметный мир как таковой мало интересен, мне интересен мир мысли.
Белорусская культура другая, она о другом. Из белорусских писателей мне ближе всего Кузьма Чорный в своих философских вещах, Михась Зарецкий. Там я вижу философичность, которая мне близка.
– Может быть, у нас столько людей русской культуры только потому, что в советской школе Некрасова и Белинского изучали больше, чем Шекспира и Сервантеса? Но Некрасов не Шекспир. Русская культура значительная, но она занимает, при всем уважении, скажем, 10 процентов мировой культуры.
– Мы все-таки один куст славянской культуры. При чем здесь Шекспир, это совершенно другой мир, неблизкий нам мир. Мы живем в этом ареале и, конечно, главное здесь - русская культура. Мы славянский ареал.
– Но в любой чешской или польской школе (там тоже славяне) русской культуре отданы свои 10 процентов как части общемировой. А у нас - и в школе, и в телевизоре русское подавляет все остальное.
– Мы жили в одной стране.
– Уже 20 лет в разных странах живем… Вы выступаете за культурную привязку к России?
– Да, я считаю, что без русской культуры мы будем провинцией, мало кому интересными дальше той же Чехии и Польши. Но во мне сильна моя белорусская часть, и в русском кругу я всегда вижу, что я другая.
– Вы - белорусская писательница, но пишете на русском языке и называете себя человеком русской культуры. Не видите ли вы тут противоречия?
– Это не мое противоречие, это противоречие времени, в котором оказалась наша страна. Мы же живем на обломках империи. Но, в принципе, я пишу историю утопии, которая говорила на русском языке. По-белорусски я была бы не равна сама себе. Меня интересует вообще человеческая природа в экстремальных ситуациях.
"Мы в Беларуси выпали из времени, мы никуда не движемся"
– Вы надеетесь получить Нобелевскую премию?
– Я даже об этом не думаю. Хотя я знаю, что я в списках. Мне понравилась формулировка, с которой меня выдвинули, - "за создание энциклопедии красной цивилизации". Мне нравится, что кто-то понял, что я делаю.
– Эти несколько месяцев вы находитесь в Беларуси, но большую часть времени вы проводите за границей. У вас не сбилось ощущение дома, вы не путаетесь, где "тут", а где "там"?
– Я живу здесь. Еще год я проживу за границей, потом возвращаюсь домой. 10 лет там - уже хватит.
Я поехала, потому что видела, что тут, на баррикаде, "сужается зрение", вместо человека ты видишь мишень, ты привязан к "революционной" тусовке. Это был путь моего личного освобождения от каких-то клише и стереотипов. Хотелось увидеть мир шире, остаться художником, а не Демьяном Бедным.
К этому меня толкнул Чернобыль. Стало ясно, что нет отдельно маленькой Беларуси, а есть просто люди, вся Земля. Мне хотелось посмотреть на мир, чтобы зрачок расширился.
– Как вы относитесь к тому, что ваши коллеги-писатели идут в политику? Самый последний и яркий пример - Владимир Некляев…
– Из всех потенциальных претендентов мне нравится экономист Ярослав Романчук. Время дилетантов в политике прошло. Мне кажется, у Романчука есть программа, а у остальных - любовь к Родине.
Володя Некляев - идеалист, он романтично думает, что может спасти страну. А у меня мнение, что спасать ее сегодня должны экономисты, люди, которые знают, что такое бюджет, ВВП и так далее.
Мы в Беларуси выпали из времени, мы никуда не движемся. В этом смысле Лукашенко - трагическая и комическая фигура для нашей истории. И люди теперь еще больше боятся перемен, потому что время, когда все верили, куда-то рвались, уже прошло.
Иногда спрашивают, почему я не занимаюсь политикой. Но мое дело - писать книги. Додумывать какие-то вещи и идеи до конца - вот чем должен заниматься писатель. У него под рукой и настоящее, и вечность. А когда ты становишься политиком, ты упрощаешь проблемы.
Я встречалась с большими политиками, президентами, и даже самые лучшие из них смотрят на мир проще, слишком загоняют себя в сегодняшнее. Мне на таком уровне идеи неинтересны. Хочется прожить честно, и что труднее всего - перед самим собой. Быть честным человеком, и в то же время быть открытым миру… И его боли…
Комментарии: